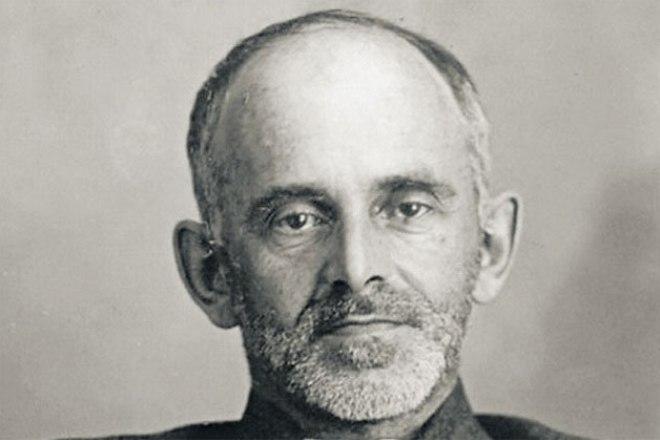Мандельштам и Армения… Это было не случайное совпадение человека и места во времени, тут была своя предопределенность.
В круге общения поэта, в его нелитературных занятиях, в выборе маршрутов его путешествий, наконец, — всегда есть некая системная, хотя и не систематическая жесткость. Случайным может быть повод, но не причина, а она лишь на нужное взглянет с улыбкой. И уж тем менее случайным может быть результат.

В записных книжках Мандельштам признается: «Никто не посылал меня в Армению, как, скажем, граф Паскевич грибоедовского немца и просвещеннейшего из чиновников Шопена… Выправив себе кой-какие бумажонки, к которым по совести и не мог относиться иначе как к липовым, я выбрался с соломенной корзинкой в Эривань (в мае 30-го года), — в чужую страну, чтобы пощупать глазами ее города и могилы, набраться звуков ее речи и подышать ее труднейшим и благороднейшим историческим воздухом» (3, 377).
И в другом месте: Армения — это «…не туристская прихоть, не случайность, а, может быть, одна из самых глубоких струй мандельштамовского историософского сознания. Традиция культуры для Мандельштама не прерывалась никогда: европейский мир и европейская мысль родилась в Средиземноморье — там началась та история, в которой он жил, и та поэзия, которой он существовал. Культуры Кавказа — Черноморье — та же книга, «по которой учились первые люди». Недаром в обращении к Ариосту он говорит: «В одно широкое и братское лазорье сольем твою лазурь и наше черноморье».
Для Мандельштама приезд в Армению был возвращением в родное лоно — туда, где все началось, к отцам, к истокам, к источнику. После долгого молчания стихи вернулись к нему в Армении и уже больше не покидали… В последний год жизни — в Воронеже — он снова вспоминал Армению, и у него были стихи про людей “с глазами, вдолбленными в череп”, которые лишились “холода тутовых ягод”… Эти стихи пропали. Но и так армянская тема пронизывает зрелый период его труда».
Столь же закономерен и весь тематический строй посвященных Армении мандельштамовских стихов и прозы. «Книжка моя говорит о том, что глаз есть орудие мышления, о том, что свет есть сила и что орнамент есть мысль. В ней речь идет о дружбе, о науке, об интеллектуальной страсти, а не о “вещах”» (4, 152), — писал он Мариэтте Шагинян. Мандельштам, вечно сомневавшийся в том, «хорошо» или «нехорошо» он живет, в итоге отчетливо сознает, сколь «хорошей» и нужной была для него эта поездка…
Само же путешествие началось весной 1930 года на правительственной даче в Сухуме и, обрамленное остановками в Тифлисе, — короткой по дороге в Армению и длинной на обратном пути, — продлилось около семи месяцев. Пять из них — с мая по сентябрь — пришлись на саму Армению, причем ровно посередине пролег островной месяц на Севане.
Эти месяцы расковали поэтический голос и, расчистив дорогу «позднему Мандельштаму», оказались одним из определяющих узлов в акупунктуре судьбы поэта.

Во что же вылилось пребывание Мандельштама в Армении, чем обернулось общение поэта и страны?
Прежде всего это стихотворный цикл «Армения» плюс несколько сопутствующих и развивающих стихотворений — общим числом около двух десятков. Стихи в основном были написаны по свежим следам — в октябре–ноябре 1930 года в Тбилиси, по пути в Москву, но несколько («Фаэтонщик» и др.) — уже в Москве, спустя полгода, в 1931 году.
Во-вторых, проза: «Путешествие в Армению» и соответствующие записные книжки. Над прозой Мандельштам работал в 1931–1932 годах.
Поразительно, но и цикл «Армения», и «Путешествие в Армению» были напечатаны довольно скоро после того, как были написаны: стихи — в мартовской книжке «Нового мира» за 1931 год, а проза — в майском номере «Звезды» за 1933 год.
Но понять «Путешествие в Армению» как произведение и понять путешествие в Армению как биографическое событие — не одно и то же.

1929 ГОД: ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Впервые поездка Мандельштама в Армению была замышлена в 1929 году, о чем свидетельствует письмо от 14 июня 1929 года Н.И. Бухарина, бывшего тогда председателем Коминтерна и главным редактором «Известий», к председателю Совнаркома Армянской ССР С.М. Тер-Габриэляну (1886–1937): «Дорогой тов. Тер-Габриэлян! Один из наших крупных поэтов, О. Мандельштам, хотел бы в Армении получить работу культурного свойства (напр., по истории армянского искусства, литературы в частности, или что-либо в этом роде). Он очень образованный человек и мог бы принести вам большую пользу. Его нужно только оставить на некоторое время в покое и дать ему поработать. Об Армении он написал бы работу. Готов учиться армянскому языку и т.д. Пожалуйста, ответьте телеграфом на ваше представительство. Ваш Бухарин».
Ответ, подписанный А.А. Мравьяном, наркомом просвещения и зампредсовнаркома Армянской ССР, пришел спустя 11 дней телеграфом: «Москва, Закпредство. Просьба передать поэту Мандельштаму возможно предоставить в Университете лекции по истории русской литературы, также русскому языку в Ветеринарном институте. Наркомпрос Мравьян. 23 июня 1929 года». Текст телеграммы, записанный на четвертушке листа, сохранился в архиве Наркомпроса Армении: на обороте разные пометы Мравьяна, в частности, резолюция: «Ждать» — и две даты: 24 августа и 4 сентября 1929 года.
Получив такую телеграмму, О.Э. поступил совершенно нетривиально и для себя самого нетипично — стал основательно готовиться к этому путешествию! Для чего, мимо строящегося клубного корпуса будущего Дома Правительства, отправился на Берсеневскую набережную. Тут же рядом — и корпуса кондитерской фабрики «Красный Октябрь» (б. Эйнема): это ей воздух на набережной Москвы-реки был обязан своими тягучестью и мучнистостью, отмеченными О.М.
В 1929 году в доме 24 по Берсеневской набережной, в сводчатых боярских палатах XVII века, примыкавших к церкви Николы на Берсеневке и не слишком-то пригодных для академической жизни, располагался НИИ этнических и национальных культур народов советского Востока (Мандельштам называет его короче и по-своему — «Институтом народов Востока»).
В записных книжках сохранилась такая фраза: «Ашот Ованисьян, директор Института Народов Востока, знаток кремнистого темно-глагольного церковного грабара (древне-армянского языка), строжайший администратор, член ВКП, одобрил мое намерение заняться яфетидологией, выдал мне грамматику Марра и отпустил с миром» (II, 395).
Что ж, не больно похоже, что Мандельштам после первого визита зачастил на Берсеневку: разве что для того, чтобы вернуть учебник Марра? Но скорее всего в Институте был небольшой запас марровых книг и Мандельштам получил учебник в подарок.
Фраза «твержу про себя спряжения по грамматике Марра» (3, 207) выдает его присутствие в багаже поэта. Но, не найдя себе учителя, Мандельштам явно пошел излюбленным путем самоучки и так же учил грабар, как сочинял «яфетические» новеллы: по вдохновению!
1930 ГОД: ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Зимой 1930 года сильнейшее желание уехать из Москвы — города перманентной травли — было почти инстинктивным. Даже такая привилегия, как служба, в отличие от ситуации августа 29-го года, уже не могла его пересилить.
И тут надо сказать, что Армения была не единственной опцией. Быть может, самой желанной, но не единственной.
Были предложения уехать в Ташкент для работы в газете «Комсомолец Востока», в Новосибирск и в Крым.
Но дальше все развивалось довольно стремительно.
На этот раз, судя по письму Н.Я. Молотову, Бухарин действовал не сам, а через него. «Бухарин нашел “приводной ремень” — путешествие было устроено через Молотова, как потом и пенсия. Устроено оно было по второму сорту — без блеска, как для настоящих писателей, но и то “по вашим грехам хорошо”. Пока что еще можно было что-то устраивать для Мандельштама, но с каждым годом становилось все труднее. Он переводился в худшие категории — нисхождение по лестнице живых существ».
Когда выяснилось, что Армения примет Мандельштама, но не раньше мая, Гусев предложил ехать, а по пути отдохнуть месячишко на правительственной даче в Сухуме. Он учитывал и то обстоятельство, что поэт уже уволился из газеты, учитывал, возможно, и тревожные отзывы врачей.
Легкие на подъем, Мандельштамы превзошли себя, — и вот в 20-х числах марта мандельштамовское «путешествие в Армению» началось!
Кроме Гусева и родных мало кто знал об их отъезде, их «исчезновение» заметили, но не сразу. И, конечно же, поползли слухи, один из которых зафиксирован в дневнике К.И. Чуковского (запись от 22 апреля): «В Гизе упорно говорили, что покончил с собой Осип Мандельштам».
Те, кто это «упорно говорили», явно каркали, но как раз в эти дни Мандельштаму совсем неплохо жилось в сухумских палестинах.
…Но вот, наконец, 23 апреля пришла телеграмма из Москвы, без подписи: «= СУХУМ ДОМ ОТДЫХА // ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ // МАНДЕЛЬШТАМУ // БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ОТВЕТ АРМЕНИИ»20. Без подписи, но присланная, скорее всего, прямо из ЦК, Гусевым.
Вскоре пришел и «ответ Армении», после чего Мандельштамы быстро собрались.
1 мая они провели в Тифлисе, а назавтра выехали в Ереван.
ЕРЕВАН

Кто-то в Тифлисе снабдил Мандельштама всеми необходимыми неказенными рекомендациями, в том числе к Мартиросу Сарьяну. Сарьян встретил их на вокзале и проводил в гостиницу «Интурист», сочтя ее достойной новых гостей. Может быть, она была и не единственной в городе, как полагал Кузин, но уж точно единственной приличной.
Но без напористой помощи Сарьяна в гостиницу Мандельштамы, наверное, не попали бы. Только после его многочисленных звонков в республиканскую контору «Интуриста» директор гостиницы согласился принять гостей с «подорожной от ЦК», хотя бы и липовой. Зато слово «хюраноц» («гостиница») стало первым армянским словом, которое гости безо всякого усилия выучили.

Улица Абовяна, на которой «хюраноц» находилась, была вся раскурочена «боговдохновенными» водопроводчиками: пыль стояла в воздухе плотным ковром. Еще не было зноя, но уже стояла жара. Зелени в городе почти не было, а та, что была, еще не пожелтела.
Тут надо сразу оговориться. Такого восточного «интернационала», как в Тифлисе или в Баку, в Эривани просто не было. Кристаллизационный центр для всей Армении, как строящейся советской, Восточной, так и дотла разоренной, Западной, город жил как бы в двух измерениях — национальном (местном) и глобальном (армянская диаспора, для которой он служил признанной метрополией). Связь же с Петербургом-Ленинградом и Москвой и при царе, и при большевиках ощущалась слабее всего.
Традиционным меньшинством здесь были шииты-«татары», после переписи 1937 года неожиданно для самих себя вдруг ставшие «азербайджанцами». Русских было сравнительно мало, в основном военные и чиновники с семьями. И только местная ученая интеллигенция (политическая элита и даже писательская братия — куда в меньшей степени) была не только русскоговорящей, но и интересующейся русской культурной жизнью. Но именно интересующейся ею, а не погруженной в нее: Париж или Нью-Йорк вызывали интерес не меньший, чем Москва с Ленинградом.
Поэтому в целом русскоязычный «культурный слой» в Эривани был решительно несопоставим с тифлисским. Достаточно сказать, что до июля 1934 года, когда стал выходить по-русски «Коммунист», во всей республике не выходило ни одной газеты на русском языке! Единственной большой газетой была тифлисская «Заря Востока», обслуживавшая всю Закавказскую федерацию. (Так что даже теоретического шанса хотя бы для эпизодических публикаций и гонораров у Мандельштама в Ереване не было.)
Не мог быть широким поэтому и круг общения. Кроме Сарьяна, у которого они не раз были и дома, и в мастерской («Кажется, он показывал тогда свой “голубой период” — с тех пор прошло почти сорок лет, но такие вещи обычно запоминаются»), в него входило буквально несколько имен.
Например, архитектор Таманян и горстка его молодых друзей, вечно и горячо споривших об искусстве. Они переходили с русского на армянский, забывая о присутствии поэта, но даже утрата нити спора не лишала Мандельштама удовольствия от горячечного жара их беседы.
Резким контрастом к этому оказалось знакомство Мандельштама с научной элитой, состоявшееся, правда, позднее — на Севане, в июле. Об этом он подробно рассказал и сам, искренне радуясь еще и «высокому уровню армянской мысли и беседы». К ученым тут тяготеют и примыкают музейщики и библиотекари.
Чем же были заполнены первые два месяца из пяти, проведенных Мандельштамом в Армении, почти сплошь в Ереване?
Музеи, библиотеки?
О да, но все это не в переизбытке и буквально в двух шагах от гостиницы.
В Ереване был тогда всего один музей — Центральный государственный музей Армении, созданный в 1921 году и весь умещавшийся в двухэтажном здании бывшей мужской гимназии на углу улицы Абовяна и площади Ленина. В этом же здании — Дом культуры и Национальная библиотека Армении.
В музее было пять отделов, в том числе этнографический, архитектурный и отдел искусства, у каждого экспозиционного пространства от силы на две комнаты. Но их, эти комнаты, Мандельштам проштудировал как следует. Поэтому, когда строители, роя фундамент на косе, соединившей остров на Севане с коренным берегом в районе села Цамакаберд, наткнулись на «кувшинное погребение древнейшего народа Урарту», он тотчас же вспомнил, что «…уже видел раньше в эриванском музее скрюченный в сидячем положении скелет, помещенный в большую гончарную амфору, с дырочкой в черепе, просверленной для злого духа» (3, 180).
То, что он видел и вспомнил, было раскопано еще в 1904–1907 гг. археологом и этнографом Ервандом Александровичем Лалаяном (1864–1931), организатором Армянского этнографического общества, основателем первого армянского этнографического журнала и первым директором Музея истории Армении, созданного, кстати, по его инициативе. А вот двое заведующих отделами музея, с которыми Мандельштам, вероятно, знакомился: археолог и историк армянской архитектуры Торос Арутюнович Тораманян (1864–1934), заведующий архитектурным отделом, и географ и филолог Степан Данилович Лисициан (1865–1947), заведующий этнографическим отделом и основатель Географического общества Армении. Его имя — имя «профессора, гадающего на шорохе листвы» (II, 466) — дважды встречается в «Записных книжках» Мандельштама.
СЕВАН

Мандельштам просыпался чуть свет, поднимался на гору и оттуда созерцал красоту севанской зари.
Обычно солнечные лучи сперва озаряют верхушки Гюнейских гор, а затем постепенно спускаются к их подножию, а потом как-то сразу огромными снопами золотом рассыпаются по голубой поверхности озера. Трудно оторваться от изумительно-красивого зрелища.
По утрам, в ясную теплую погоду трудно отличить цвет севанской воды от его неба. Кажется, что они где-то далеко, далеко сливаются, образуя целое большое безбрежное море.
<…> Огромные стаи форелей совершали свою утреннюю прогулку, подплывая близко к берегу. Услышав малейший шорох, они ныряли и уходили ко дну. Но и там они были видны, до того чиста и прозрачна севанская вода. // Переливаясь под лучами утреннего солнца, они восхищали своим серебристым блеском, яркими пятнышками и красивой, изящной формой тела.
Поэт возвращался со своей утренней прогулки в прекрасном настроении. В такие минуты он обычно восклицал: “Интересно, чья это идея создания на острове дома отдыха, это же замечательно!”.
ЕРЕВАН: ВСТРЕЧА С ФАВСТОСОМ БУЗАНДОМ
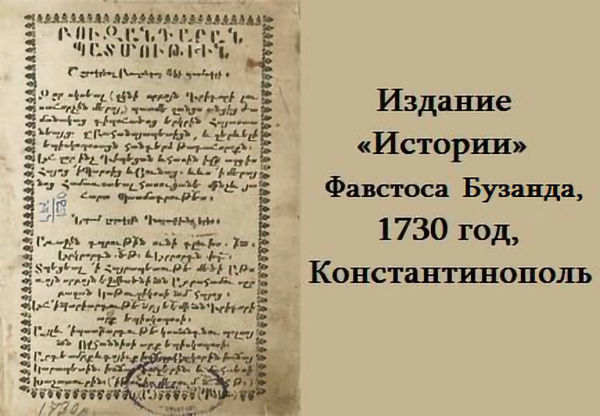
Конечно, и в августе с сентябрем в его «распоряжении» оставались те, что скрашивали его жизнь в мае с июнем: Сарьян, Таманян, Чаренц.
К ним надо добавить еще и Якова Самсоновича Хачатрянца, мужа Мариэтты Шагинян. Летом 1930 года он был в Ереване и заканчивал работу над «Армянскими сказками», выпущенными «Academia» в том же году, причем художником книги был Сарьян. Сохранилась чудесная фотография, где Осип Эмильевич, Надежда Яковлевна, он и, видимо, местные жители и ребятишки сняты внутри развалин Аванского храма.
Оставались, разумеется, и музеи с библиотеками. Но только акцент, кажется, был теперь перенесен на библиотеку и изучение языка.
Точнее языков, так как Мандельштам, помимо современного армянского языка, изучал и древний армянский (грабар).
Для современного армянского Мандельштам нашел такие слова: «Армянский язык — неизнашиваемый — каменные сапоги. Ну конечно, толстостенное слово, прослойки воздуха в полугласных. Но разве всё очарованье в этом? Нет! Откуда же тяга? Как объяснить? Осмыслить? // Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и — может, даже — на какой-то глубине постыдные. // Был пресный кипяток в жестяном чайнике — и вдруг в него бросили щепотку чудного черного чаю. // Так у меня с армянским языком» (3, 206).
Мандельштаму не нужен был никакой другой источник Фавстоса Бузанда, кроме одного из его оригинальных изданий. И все они были явно под рукой — самое раннее вышло в Стамбуле в 1730 году, а ближайшее по времени — в Тифлисе в 1912 году. Его визави был тем самым лицом, что в это время переводил Бузанда и на русский язык. И то, что книга вышла только в 1953 году, не отменяет того, что работа над переводом могла начаться или вестись гораздо раньше.
Более того, исследователи уже давно сошлись в том, что «История Армении» Бузанда, помимо исторического, носит и эпический, то есть художественный характер. Это тем более оправдывает вольности, которые позволил себе Мандельштам в том пересказе фрагмента из Фавстоса Бузанда, давая не сухой подстрочник перевода фрагмента из Фавстоса Бузанда, которым он завершил свое «Путешествие в Армению», а вольный его пересказ.
В этом вольном пересказе Фавстоса Мандельштам не отступает от канвы повествования, но насыщает его яркими деталями и смещает некоторые акценты — так что этот вольный пересказ вполне переосмысляется как прямое высказывание о собственной судьбе: «Ассириец держит мое сердце».
АРАРАТ

Для того чтобы любоваться Араратом, необязательно покидать Ереван. Можно даже его и не видеть: «Я в себе выработал шестое — “араратское” чувство: чувство притяжения горой. // Теперь, куда бы меня ни занесло, оно уже умозрительное и останется» (3, 206).
Вот еще зарисовка: «Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату. // Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вваливаются в стакан румяного чая и расходятся в нем кучевыми клубнями. // А впрочем, небо земли араратской доставляет мало радости Саваофу: оно выдумано синицей в духе древнейшего атеизма. // Ямщицкая гора, сверкающая снегом, кротовое поле, как будто с издевательской целью засеянное каменными зубьями, нумерованные бараки строительства и набитая пассажирами консервная жестянка — вот вам окрестности Эривани» (3, 205).
НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Самая последняя вылазка из Еревана — незадолго до прощания с Арменией — состоялась в Нагорный Карабах. В комментарии Надежды Мандельштам к «Фаэтонщику» читаем: «На рассвете мы выехали на автобусе из Гянджи в Шушу. Город начинался с бесконечного кладбища, потом крохотная базарная площадь, куда спускаются улицы разоренного города. Нам уже случалось видеть деревни, брошенные жителями, состоящие из нескольких полуразрушенных домов, но в этом городе, когда-то, очевидно, богатом и благоустроенном, картина катастрофы и резни была до ужаса наглядной. Мы прошлись по улицам, и всюду одно и то же: два ряда домов без крыш, без окон, без дверей.


В вырезы окон видны пустые комнаты, изредка обрывки обоев, полуразрушенные печки, иногда остатки сломанной мебели. Дома из знаменитого розового туфа, двухэтажные. Все перегородки сломаны, и сквозь эти остовы всюду сквозит синее небо.

Говорят, что после резни все колодцы были забиты трупами. Если кто и уцелел, то бежал из этого города смерти. На всех нагорных улицах мы не встретили ни одного человека. Лишь внизу — на базарной площади — копошилась кучка народу, но среди них ни одного армянина, только мусульмане. У О.М. создалось впечатление, будто мусульмане на рынке — это остатки тех убийц, которые с десяток лет назад разгромили город, только впрок им это не пошло: восточная нищета, чудовищные отрепья, гнойные болячки на лицах. Торговали горстями кукурузной муки, початками, лепешками… Мы не решились купить лепешек из этих рук, хотя есть нам хотелось… О.М. сказал, что в Шуше то же, что у нас, только здесь нагляднее и поэтому невозможно съесть ни куска хлеба… И воды не выпьешь из этих колодцев…
В городе не было не только гостиницы, но даже комнаты для приезжающих по имени “общо┬”, где спят вместе мужчины и женщины. Автобус на Гянджу уходил наутро. Люди на базаре предлагали нам переночевать у них, но я боялась восточных болячек, а Мандельштам не мог отделаться от мысли, что перед ним погромщики и убийцы. Мы решили ехать в Степанакерт, областной город; добраться туда можно было только на извозчике. Вот и попался нам безносый извозчик, единственный на стоянке, с кожаной нашлепкой, закрывавшей нос и часть лица. А дальше было все точно так, как в стихах: и мы не поверили, что он нас действительно довезет до Степанакерта…
Стихи об этом — «Фаэтонщик» и «Как народная громада…» — были написаны годом позже (12 июня 1931 года). Страшный, разгромленный, без единого армянина армянский город — Шуша, где десятью годами ранее мусаватисты вырезали 35 тысяч армян — эхо Геноцида 1915 года и дружной геополитики победителей и побежденных в Первой мировой.
Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Все утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.
И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых востока;
И вот лежишь на москательном ложе
И с тебя снимают посмертную маску.
Цикл «Армения» и сам по себе феноменален для Мандельштама. Феноменален именно тем, что это классический цикл, то есть семантическое единство нескольких примыкающих друг к другу стихотворений, написанных, как правило, в разное время и собранных по тематическому, а не по хронологическому принципу.
Мандельштам — один из самых циклобежных российских поэтов: постепенно, не сразу, но к 30-м годам уже прочно — устоялось его композиционное кредо: временной поток. Кроме «Армении», он выходил из «потока» еще дважды — оба раза на стыке 1933 и 1934 годов: в «Восьмистишиях» и «Стихах Андрею Белому».
Лейтмотивы армянских стихов — труд, глина, строительный камень, солнце, смерть и скорбь. Интересный нюанс: мусульманский Восток, христианским форпостом перед которым являлась Армения, клином врезавшаяся в переднеазиатскую толщу между Персией и Турцией, у Мандельштама представлен здесь исключительно Персией с ее «солнца персидского деньгами», «близоруким шахом», «близоруким шахским небом», «розой Гафиза», Фирдоуси (в прозе) и даже с муллой, вполне идентифицируемым как мулла из ереванской мечети.
На суннитскую Турцию поэт хотя и смотрит в упор, но не видит, не замечает, не называет ее! В ней — «далеко за горой» — он соглашается видеть разве что уничтоженную турками с курдами Западную Армению, с которой, прежде чем предать навсегда земле, снимают маску-слепок.
Интересно наблюдать, как в армянских стихах 1930 года сильнейшая дактилическая тяга борется с белым стихом и верлибрами причем если внутри цикла торжествуют последние, то вне его — дактили.
Стихотворение «Дикая кошка, армянская речь…» все дышит Пушкиным с его единственным заграничным «Путешествием в Арзрум», но рисуемый поэтом образ гораздо сложнее. Он насыщен армянскими реалиями не только пушкинской, но и мандельштамовской современности. Эволюция же неутешительна: «роковое в груди колотье», может быть, одно и то же, но вот люди превратились и продолжают превращаться в «людьё», что намекает не только на отношение властей к своим поданным, но и на Геноцид.
Материал подготовила: Марина Галоян
В материале использована статья председателя Мандельштамовского общества, члена Русского Пен-клуба и Союза писателей Москвы, Павла Нерлера.

 Онлайн
Онлайн